
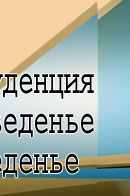
Библиотека
Юмор
Ссылки
О сайте

М. М. Сперанский
Правила высшего красноречия
("Правила высшего красноречия" были написаны М. М. Сперанским в 1792, в бытность его преподавателем Главной семинарии (преобразованной позже в академию) при Александро-Невском монастыре в Петербурге. 8 апреля 1795 г., двадцати трех лет от роду, Сперанский был назначен учителем философии и вместе с тем префектом семинарии. О последней должности в Духовном регламенте Петра I говорилось, между прочим, что префект должен быть "честного жития, не весьма свирепый и не меланхолик". Книга Сперанского - это изложение части его лекций. На ее написание, как считает биограф М. Сперанского барон М. Корф (см. его книгу "Жизнь графа Сперанского", Спб., 1861), автора натолкнули "недостаток руководств на русском языке по теории словесности, свойственная молодости охота созидать..." М. Корф отмечает, что "в такое время, когда теория словесности не представляла у нас ничего подобного, когда она и в школах и в руководствах была закована в устарелые и мертвые схоластические формы; когда от "Правил высшего красноречия" и по духу их и по образу изложения должно было ожидать, по всей вероятности, такого же электрического удара, какой произвели почти современные им "Письма русского путешественника" (Н. М. Карамзина. - Ред.); когда, прибавим, подпись имени под какой-нибудь статейкой в тогдашних немногих и скудных по содержанию русских журналах тотчас давала этому имени значение в ученом мире и слава литературная приобреталась не с такими трудностями, как теперь, - Сперанский, несмотря на всю эту благоприятную обстановку, воздержался напечатать свою книгу". Причину этого Корф усматривает в "недоверчивости (Сперанского. - Ред.) к своим силам". "Правила высшего красноречия" были изданы профессором С.-Петербургской духовной академии Ветринским через пять лет после смерти Сперанского - в 1844 г. - 67)
Основание красноречия... суть страсти. Сильное чувствование и живое воображение для оратора необходимы совершенно. И как сии дары зависят от природы, то, собственно говоря, ораторы столько же родятся, как и пииты. В самом деле, примечено, что у самых грубых народов вырывались черты, достойные величайших ораторов. Поставьте дикого, рожденного с духом патриотизма и независимости и снабженного сильным воображением, поставьте его в такое же сопряжение обстоятельств, в каком стоял Демосфен, растрогайте его страсти и дайте свободно излиться его душе - вы увидите в нем мысли высокие, сильные, поражающие; язык его будет убедителен; страсти, коими сердце его исполнено, разольются в его речи; и образом почти механическим он даст своим слушателям тот же удар и сообщит то же движение, коим душа его потрясается. Все различие между им и Демосфеном состоять будет только в том, что его мысли будут без связи, без искусства, рассеяны, не выдержаны; его речь будет сильна, но отягчена повторениями, без гармонии, без пощады для уха; и, чтоб принять его впечатления, надобно или иметь столько терпения, чтоб забыть все его недостатки, или быть столько неразборчивым, чтоб их не приметить, т. е. надобно быть самому диким. Человек со вкусом тонким и нежным, привыкший от высокого переходить к высокому не чрез сей тернистый путь холодного и простого, но чрез цветы и красоты нежного рода, будет восхищаться с ним в местах истинно красноречивых; но по окончании всей речи он скажет, что дорого за них заплатил, ибо веден был к ним чрез места сухие и скучные. Итак, чтоб целая речь в ушах просвещенных имела свое действие, мало к сему бросить по местам искры чувствия и силы, надобно сии места связать с другими, усилить мысли, поставить их в своем месте, поддержать выражение выражением и слово утвердить словом. И вот чему должно обучаться. Итак, места красноречивые вдыхает природа, т. е. надобно иметь сильное чувствие, или, что то же, надобно иметь живое воображение и огненные страсти. Чтоб их произвесть, дать им образ, оправить их - если можно так сказать, - есть действие науки.
После всех сих замечаний справедливо, кажется, будет с д'Аламбером сказать, что красноречие есть дар потрясать души, переливать в них свои страсти и сообщать им образ своих понятий. Первое последствие сего определения есть то, что, собственно говоря, обучать красноречию неможно, ибо неможно обучать иметь блистательное воображение и сильный ум. Но можно обучать, как пользоваться сим божественным даром; можно обучать (позвольте мне сие выражение), каким образом сии драгоценные камни, чистое порождение природы, очищать от их коры, умножать отделкой их сияние и вставлять их в таком месте, которое бы умножало их блеск, И вот то, что, собственно, называется риторикой.
Вступление
Мы примечаем, что одна и та же вещь при известном мыслей расположении действует на нас сильнее, а при другом - слабее. Скажите одно оскорбительное слово человеку озлобленному или приведенному в гнев - оно покажется ему величайшей обидой. Но оскорбите несравненно более того же самого человека, когда он весел и рассеян - он вам простит или и не приметит. Дайте несчастному малейшую тень подозрения или страха - он ухватится за нее, увеличит ее и представит себе ужасной. Таким-то образом предыдущее расположение души способствует или вредит настоящему впечатлению. Вы хотите исторгнуть из слушателей слезы - наклоняйте сердце их постепенно к печали, приготовьте к сему их и не делайте им внезапных переломов. И вот на чем лежит истинное основание вступления. Оно есть введение или приуготовление души к тем понятиям, которые оратор ей хочет внушить, или к тем страстям, кои в ней он хочет возбудить. Отсюда сами собой выходят все правила для вступления.
1. Оно должно быть просто, ибо мудрить в приуготовлении не есть пояснять свои понятия, но затемнять их, не есть вводить слушателя в материю, но влещи его туда силой. В продолжение слова можно принять тон возвышенный, можно взойти к истинам отвлеченным, но надобно прежде познакомиться с своим слушателем, приучить его за собой следовать. Когда он войдет в образ наших мыслей, те ж самые понятия, кои показались бы ему темны вначале, будут тогда вразумительны, ибо он познает истинное их отношение и точку, с которой надобно на них смотреть. Итак, все вступления тонкие и метафизические тем самым, что они слишком умны, - порочны в истинном красноречии. И сие есть первое правило вступления.
2. Гораций смеется над сими пышными и многообещающими вступлениями... Он называет fumum ex fulgore (Сперанский, ссылаясь на Горация, имеет в виду его "Науку поэзии", в частности следующий отрывок из нее:
Бойся начать как циклический прежних времен стихотворец: "Участь Приама пою и войну достославную Трои!" Чем обещанье исполнить, разинувши рот столь широко? Мучило гору, а что родилось? Смешной лишь мышонок! Лучше стократ, кто не хочет начать ничего не по силам: "Муза! Скажи мне о муже, который, разрушивши Трою, Многих людей, города и обычаи в странствиях видел!" Он не из пламени дыму хотел напустить, но из дыма Пламень извлечь, чтобы в блеске чудесное взору представить...
(См. "Наука поэзии". Полн. собр. соч., М. -Л., 1936, стр. 344-345, пер. М. Дмитриева.) -69. ) сии невыдержанные творения, коих голова убрана слишком ве-ликолепно, и тем самым все прочее обезображено. В самом деле, сделать столь великолепное начало есть обязаться показать что-нибудь впоследствии еще большее. Но вообще примечено, что заставить много от себя ожидать есть верный способ упасть.
Сии два правила стоят иногда маленьких жертв молодому оратору, уловляющему с нетерпением все, что может занять его слушателей. Он знает, что есть люди, для коих все решит первое впечатление, которые по слову судят о части и по части о целом, для коих простое и ненарумяненное, так сказать, вступление есть верный признак худого слова. Чтобы позанять их, надобно блеснуть и ослепить их сначала. Вот камень претыкания для проповедников! Но надобно решиться презирать глупых или отказаться от похвал просвещенных. Люди с чистым вкусом находят свои красоты равно как в простом, так и в возвышенном. Бросайте черты легкие, вводите понятия ясные, предлагайте их слогом текучим, ступайте иногда по цветам, но всегда озирайтесь, идет ли за вами ваш слушатель.
Доказательства
Доказательства, говорит Роллен, в слове суть то же, что кости и жилы в теле. Круглость, белизна, живость членов составляют красоту тела, но не силу и твердость. Но надобно определить точнее роды доказательств и показать, который из них наиболее свойствен церковному слову. Философы приметили (определили), что, собственно говоря, одна может быть только в свете истина. Все прочие суть только ее ветви, они все прикреплены к одному общему корню. Низходя постепенно, дойти до сего корня есть доказать истину. Такова есть природа истин вообще. Отличительный характер истин нравственных состоит в том, что сверх сей всеобщей они посредством неприметных сплетений, сцепляясь одна с другой, все сходятся и оканчиваются в нашем сердце, или, яснее, все они разрешаются на великое начало удовольствия и досады. И для сего-то сии истины называются истинами чувствия. Итак, нравственные истины могут быть доказываемы двояко: 1) разрешением их на общее начало истин и 2) приведением их к чувствию. Я изъясняюсь примером. Что начало мира кроется в ничтожестве, сия истина течет из общего источника истин, т. е. из начала противоречия. Доказать сие есть разрешить ее на него или открыть те протоки, коими она с сим началом сливается. И вот предмет логического доказательства. Но сия истина не имеет никакого почти отношения к нашему сердцу. Для счастья нашего все почти равно, будет ли мир вечен или нет. Но когда скажут: "Помогай бедным", нетрудно приметить, что сия истина связана с двумя различными началами. Взяв первую ее нить, развивая ее и следуя за ней, мы придем к началу неравенства состояний; проходя далее, перейдем мы к той великой и окруженной мраками эпохе, в которую возникли общества, когда законы в первый раз своим скипетром указали блуждающему человеку единое счастье, которое в быстром течении обстоятельств и времени он мог еще остановить и удержать при себе. Мы придем к тем древним и согбенным под тяжестью веков столпам, сим памятникам скончавшейся свободы, на коих в первый раз руки человеков написали сии слова: обязательство, должность... Там заступило место равенства взаимное обязательство; там, когда каждому раздаваемы были рукой законов его права, бедный получил право требовать у нас помощи. Итак, сие право родилось с обществом, и оно составляет целое звено в его великолепной цепи, связующей народы. Простите мне сей забег воображения. Я хотел сим показать, что, доказывая таким образом наше предложение и восходя к его началу, можно встретить на пути изображения великие, поражающие истины; но сколько бы мы ни делали уклонений, начав с сей точки, никогда не придем мы к сердцу, ибо сердце ни обязательств, ни законов не знает, оно не будет разуметь наших великолепных рассказов, ибо на его языке слова сии не существуют. Итак, сей образ доказывать касается только ума и может войти только случайно или в качестве перехода в слово. И вот что я называю доказывать разрешением на общее начало истин. Но когда вы будете развивать другой конец сего предложения, вы не будете удаляться от человека; чтоб сыскать начало его обстоятельств, не покроетесь вы сами мраками трудных разысканий и не будете теряться из виду слушателей в сих многосложных умствованиях; ваш поступ будет прост и открыт для всех. В средине бедной хижины, где начертан образ совершенной бедности, вы представите нам старца. Обстоим малолетними его детьми, едва еще могущими простирать к нему свои нежные руки, чтоб требовать себе пищи. Он берет кусок засохшего хлеба и дрожащей рукой разделяет его бедным своим птенцам. Сердце его при сем виде раздирается: "Это последний хлеб мой, дети!.. Я умираю... Но вы останетесь еще и испытаете весь ужас сиротства и бедности. Промысл!.." И с сим словом старец испускает дух свой. Приведите ваших слушателей к сему изображению. Вот что называю доказывать приведением к чувствию. Сии строки, когда родятся под пером оратора, пошлют каждое слово к сердцу. Итак, справедливо, что нравственные истины имеют два начала, и по различию сих начал они могут входить как в речь, так и в слово, но в каждое внося с собой свой отличительный характер. Следовательно, доказывать нравственную истину в проповеди есть открыть те отношения, коими она соединяется с нашим сердцем, есть найти сии тайные нити, коими они с ним связуются. Ясно, что потрясение, данное им, сообщится сердцу и произведет то, что, собственно, называется страстью. И вот источник страстного в слове. Чтоб привести в свою зрелость страсть, таким образом рожденную, к сему надобно знать природу страстей, их ход и их язык - три предмета, кои я постараюсь пояснить впоследствии. Теперь выведем из предложенного определения общие правила для доказательств.
1. Все доказательства слишком тонкие и метафизические порочны в истинном красноречии. Они делают честь уму, но означают недостаток благоразумия. Кто хочет писать собственно для того, чтоб его не понимали, тот может спокойно молчать.
Примечание. Можно иметь мысли благоразумные и вместе говорить ясно. Дело состоит только в том, чтобы найти сходственный понятию слушателей образ выражений; и сей образ всегда бывает наилучший. Нет почти мысли столь тонкой, которой бы не можно было предложить образом понятным и простым.
2. Доказательства слишком обыкновенные порочны в истинном красноречии. Это, правда, есть материи, в коих трудно сказать что-нибудь новое. Дело хорошего оратора - возвратить предметам собственную их важность и красоту. Одна и та же материя, перелитая в различные виды, может сама показаться различной; и если неможно всегда быть новым по предмету слова, всегда можно быть таковым по обороту и выражению.
3. Надобно, чтоб один довод не только не вредил другому, но и поддерживал его. Доводы все могут доказывать одну и ту же вещь и не иметь между тем близкой между собой связи. Речь потеряет сим свое единство, и внимание слушателей развлечется. Дело оратора найти точку их соединения и поставить так, чтоб казалось, что один непосредственно следует за другим. Отсюда употребление переходов.
О страстном в слове
Под страстным в слове я разумею сии места, где сердце оратора говорит сердцу слушателей, где воображение воспламеняется воображением, где восторг рождается восторгом. ...Оратор должен быть сам пронзен страстью, когда хочет ее родить в слушателе. "Плачь сам, ежели хочешь, чтоб я плакал", - говорит Гораций. Душа, спокойная совсем, иначе взирает на предметы, иначе мыслит, иначе обращается, иначе говорит, нежели душа, потрясаемая страстью. Читай, размышляй, дроби, рассекай на части лучшие места, изучи все правила, но, если страсть в тебе не дышит, никогда слово твое не одушевится, никогда не воспламенишь воображения твоих слушателей и твой холодный энтузиазм изобразит более умоисступление, нежели страсть. Это потому, что истинный ход страстей может познать одно только сердце и что они особенный свой имеют язык, коему не обучаются, но получают вместе с ними от природы...
О возрастах сочинения
Когда раскроются первые способности нашего дара, когда ум наш будет в состоянии управлять нашим вниманием и когда память столько уже наполнена будет образами предметов, что в силах будет доставлять ему для творения потребные материалы, тогда мы покушаемся полагать мысли на бумагу, и здесь начинается первая эпоха нашего сочинения, это первый и, так сказать, младенческий его возраст. В сем возрасте мы, не в состоянии будучи мыслить тонко, довольствуемся мыслить правильно. Наш ум, как слабый младенец, тогда покушается только говорить, он намекает некоторые слова, но не может еще совершенно их выразить. Стройность речений, простота мыслей, множество слов, первые очертания страсти, обезображенные или недоконченные в их отделке, - вот отличительный характер сего возраста!
Счастлив, кто упражнением и силой ума может сократить время сего возраста! Ибо есть люди, кои никогда из него не выходят. Сии вечные младенцы не смеют подняться выше первого их круга; и все, что время может сделать с ними, - это есть приучать их идти скоро, но всегда путем общим, проложенным еще за несколько пред ними веков, тысячей умов посредственных. Сей путь гладок и удобен, но никогда не провождал он ко храму истинного витийства, никогда следы Цицерона и Демосфена на нем не были видны. И сим-то путем шествовали некогда со всей важностью наши тяжелоученые писатели. В их единообразном и скучном красноречии везде видна боязливая правильность, не потому, чтоб ум их был слишком осторожен или разборчив, но понеже они не имеют столько вкуса, чтоб делать смелые уклонения и заблуждать с приятностью. Они никогда не падали, понеже всегда на земле пресмыкались. С течением лет и упражнения ум наш делается тонее. Сии красоты, которые сильно занимали его сперва, делаются для него со дня на день более легкими и наконец по малости своей пред ним совершенно исчезают. На месте прекрасных своих сочинений он видит многосложное сплетение истин, слишком простых и слишком известных. Он ищет красот, которые бы уму его более стоили и более бы его упражняли. Между тем воображение его достигает до известной степени зрелости, страсти начинают раскрываться и говорить ему голосом внятным. Здесь начинается юношеский, так сказать, возраст сочинений. Но разум еще не научился управлять им. Его око озирает уже более пространства, но не может проникнуть в глубину предмета. Он видит в материи много мыслей, но не умеет привести их в единство или найти точку их слияния. Отсюда происходит, что в сочинениях сего второго возраста более бывает отступлений и забегов, нежели мыслей, из самого основания материи извлеченных. Камень претыкания в сем возрасте есть подражание. Когда вкус получил уже довольно утончения к тому, чтоб требовать чего-нибудь большего, нежели что доселе удовлетворяло, он ищет в творениях, кои соединяют в пользу свою все голоса знатоков истинных, он ищет в них оснований красоты и, сравнив их со своими, хочет узнать различие между сочинением худым и сочинением красноречивым, дабы оттуда произвести общее правило и расположить по нем свои произведения. Но сие различие может находиться или в словах, или в мыслях. Первое уловляет он с одного взгляда, а второе от него укрывается. Он делает следующее умствование: "Сие сочинение, по отзыву всех, прекрасно. Но почему оно прекрасно? Понеже мысли в нем предложены новыми словами или по крайней мере вновь от прежних произведенными. И вот все различие между сочинением худым и сочинением красноречивым и истинным источник красот в слове!" Так умствует Клеанф, читая пресловутые сочинения Ариста (Клеанф, Арист, в дальнейшем Клеон, Клистен - имена, вероятно, вымышленные. Похожие имена встречаются в ряде комедий Мольера. - 73). Клеанф поздравляет себя с сим открытием и радуется, что писать красноречиво ему столь мало будет стоить. Ибо, заготовив несколько громких и новых слов, он не сомневается, что будет столько же хороший оратор, как и Арист. Итак, наш Клеанф делает себе правило: впредь не мыслить, сочиняя, но соединять пышные слова. Он полагает с памятью своей тайный договор - поставлять ему во время сочинения по нескольку сих слов, а уму своему повелевает непременно их связывать и вмещать в сочинение, несмотря на все сопротивление мыслей. Тиран сих последних, он повелевает делать им все насилия, не щадя ни истины их, ни простоты. Он хочет того только, чтоб любезные его слова не потеряли чего-нибудь, или бы не были опущены. Вот все его желание! Тщетно ему говорят, что из слов, принуждающих мысль, может выйти один великолепный вздор, что сочинения Ариста не потому превосходны, что в них стоят новые слова, но что мысли его красивы, что слог его текуч, что выражения его тонки, что, наконец, слова его сами приходят и ложатся под перо.
О расположении слова
Все должности оратора Цицерон описывает тремя словами: videat, quid dicat, quo loco et quo modo. Quid dicat - он должен изобресть; quo loco - он должен расположить; quo modo - он должен предложить известным слогом. Риторика не что другое есть, как пространное истолкование сих слов. Мы доселе занимались первой ее частью, т. е. изобретением. Разрешив науку изобретения на науку размышлять, нам осталось только показать, каким образом делать выбор в изобретенных мыслях; и как к сему требуется необходимо добрый вкус, мы рассмотрели его начала, открыли его корень в нашей душе, указали его ветви и дали способ его возвращать.
Теперь я предполагаю, что оратор, углубившись в свой предмет, открыл в нем богатую жилу своему размышлению, что дар его обозрел все поле, где он должен собирать свои материалы, что вкус его отделил в них изящное от блистательного, истинное от ложного, сообразил все с главным видом своего предмета и таким образом собрал известное количество мыслей и рассуждений. Я предполагаю далее, что мысли сии будут тонки, естественны и даже высоки; рассуждения дальновидны, правильны, взяты из самой глубины сердца или ума. Но если дух порядка подобно духу творческому, носясь над хаосом мыслей и рассуждений, не приведет его в движение и не расположит предметы сходственно природе их, все представит тогда одно только безобразное смешение понятий, покрытое глубоким мраком. Сие зрелище для души будет скучно; ее внимание, разделяясь на столько видов, между собой различных, будет в них теряться, принуждено делать внезапные, далекие и насильные переходы от одного предмета к другому, из коих каждый его порывает к себе; оно придет в усталость, и душа почувствует неудовольствие. Сверх сего большая часть красот зависит от места. Вставьте алмаз в средину безобразных камней - он потеряет половину своего блеска, он едва будет приметен. Это потому, что надобно сперва душу приготовить к чувствию, которое мы хотим дать ей испытать, надобно сперва настроить ее внимание на сходственный тон, тогда малейшие ударения красот ей будут чувствительны, тогда все силы ее соображения соберутся в одну точку, и она обнимет предмет во всем его пространстве. Одна мысль будет провождать его к другой, и она пойдет, со всех сторон окружена светом, который они друг на друга проливают...
Я понимаю два рода расположений: одно из них касается мыслей, другое - частей слова, одно можно назвать частным, другое - общим. Я сделаю несколько примечаний на то и на другое.
Порядок размышления был бы порядок и сочинения, если бы при размышлении не встречались нам мысли побочные и чужие нашему предмету. Они связаны не по природе своей, но примкнуты по времени, месту, обстоятельствам. Отделить сии мысли и оставить одни только однородные, может быть, есть то же, что расположить предмет...
Порядок мыслей, входящих в слово, два главные имеет вида: взаимное мыслей отношение к себе и подчинение их целому. Отсюда происходят два главных правила для расположения мыслей:
1. Все мысли в слове должны быть связаны между собой так, чтоб одна мысль содержала в себе, так сказать, семя другой. Сие правило вообще известно, и я не буду слишком на него настоять, я покажу его только основание. Все сходственные образы вещей связаны в мозгу известным сцеплением, а посему, как скоро один из них подвинется или оживится, в то же мгновение все зависящие от него приемлют движение или оживляются. Сие сообщение или игра понятий представляет душе приятное зрелище: ее внимание с легкостью переходит от одного предмета к другому, ибо все они повешены, так сказать, на одной нити. В мгновение ока она озирает их тысячи, ибо все они по тайной связи с первым движутся с непонятной быстротой. Таким образом, одно занимает ее без усталости, а другое дает ей выгодное понятие о пространстве ее способностей, и все вместе ее ласкает. Но, как скоро понятия будут разнородные, их образы не будут лежать близко и связь между ними будет не столь крепка и естественна. Душа должна на каждое взирать особенно. Она Должна рассыпать внимание свое во все стороны, переходы от одного предмета к другому будут для нее трудны, ее внимание не будет переходить само собой, его надобно будет влечь насильно. Сумма собранных понятий будет не столь велика, чтоб заплатить ей за сей труд, и все насильное не может быть не противно.
На сем-то главном правиле основано употребление переходов от мысли к мысли и от части к части. Есть понятия, по естеству своему тесно связанные между собой, но сия связь не для всех и не всегда бывает приметна - надобно ее открыть, надобно указать путь вниманию, проводить его, иначе оно может заблудиться или прерваться.
Умы резвые, бросающиеся из одной мысли в другую! Вы должны сии правила при каждом сочинении приводить себе на память, вы должны удерживать, сколько можно, стремительный свой бег и всегда держаться одной нити. В жару сочинения все кажется связано между собой; воображение все слепляет в одно. Приходит холодный здравый разум - и связь сия исчезает, все нити ее рвутся, сочинение распадается на части, и на месте стройного целого видна безобразная смесь красот разительных.
2. Второе правило в расположении мыслей состоит в том, чтоб все они подчинены были одной главной...
Сие правило известно в писаниях риторов под именем единства сочинений; его иначе можно выразить так: не делай из одного сочинения многих. Во всяком сочинении есть известная царствующая мысль, к сей-то мысли должно все относиться. Каждое понятие, каждое слово, каждая буква должны идти к сему концу, иначе они будут введены без причины, они будут излишни, а все излишнее несносно...
Те не понимают, однако ж, истинного разума сего правила, кои требуют, чтоб сие отношение было непосредственно, чтоб, говоря о скупости, каждая мысль замыкала в себе непременно сие понятие. Это значит не различать главного конца от видов, ему подчиненных. Довольно, чтоб каждая мысль текла к своему источнику и, слившись вместе с ним, уносилась и была поглощаема в общем их вместилище. Можно ли требовать, чтоб все реки порознь впадали в море? Те не понимают также сего правила или его забывают, кои в сомнениях делают далекие и невозвратные отступления...
Сия погрешность может происходить от двух причин: или от слабости соображения, когда ум не может свести всех понятий с главным, сличить их и с точностью определить сходство их или различие; или от сильного и стремительного воображения, порывающего и уносящего с собою рассудок. Когда такое воображение владычествует в сочинении, оно увлекает всю материю в ту сторону, которая для нее выгоднее, где свободнее может оно разлиться и где менее встречает себе оплотов. Часто оно открывает там места прекрасные, но, понеже они удалены от истинного пути, душа с неудовольствием их рассматривает, ибо знает, что их надобно наконец оставить и возвратиться на прежнюю стезю, не сделав ни одного шага вперед. Она любит места прекрасные, но надобно, чтоб они лежали у нее на дороге.
Есть род отступлений, делающих исключение из сего правила. Это суть, так сказать, отступления с умыслу, когда писатель к главной мысли идет не прямо, но "извилинами, не теряя ее, однако ж, из виду. Но, собственно говоря, это и есть отступление, это есть кратчайшая дорога к той же цели. Она не пряма, но зато она или надежнее, или приятнее. Сей род отступления не есть погрешность, но совершенство. Писатель делает сим душе приятный обман, когда, заблуждая с нею и, по-видимому, удаляясь от своего конца, вдруг одним шагом ставит ее пред ним и совершает свой путь, не дав почти ей приметить, что они подвигались вперед. Я замечу между тем, что нет ничего труднее в сочинении, как заблуждать таким образом, т. е. заблуждать, не теряя дороги. Надобно твердо знать свою цель, надобно знать все уклонения, все тропинки, ведущие тайно к ней, чтоб отважиться на сие с успехом. Таковы суть правила расположения мыслей; поступим к расположению частей слова.
Нет ничего естественнее, как расположить речь на четыре части. Искусство, но искусство очень близкое к природе, заставляет нас к двум существенным частям слова, т. е. к предложению и доводам, присовокупить две другие: вступление и заключение (одно - чтоб приуготовить ум, другое - чтоб собрать в одну точку всю силу речи и тем сделать сильнейшее в нем напечатление). Основание и необходимость каждой из них мы видели, когда рассматривали сии части слова вообще.
И сие есть общее расположение всех речей; между тем, однако ж, каждая из них имеет собственный свой план, ибо каждая из них собственную свою имеет материю и собственный свой ум, ее обрабатывающий.
Хотеть, чтобы все речи были располагаемы по одному частному расположению, - это все равно, как требовать, чтоб все изображения были сделаны на один образец или вылиты в одну форму. Конец расположения есть укрепить посредством порядка связь мыслей, поддержать понятие понятием и слово пояснить словом. И можно ли на сие предписать какое-нибудь общее правило? Всякая материя заводит наши мысли собственным своим ключом; следовательно, во всякой материи ход должен быть различен. Итак, обозреть свой предмет, раздробить его на части и, сличив одну часть с другой, приметить, какое положение для каждой выгоднее, какая связь между ими естественнее, в каком расстоянии они более друг на друга отливают света, приметить все сие и установить их в сем положении, дать сию связь, поставить в сем расстоянии - есть единое правило на расположение...
Итак, поставить один сильный и строгий довод на место множества слабых или однозначащих не есть ослабить силу доказательства, это значит собрать внимание слушателя и обратить его на одну сторону. Сего, однако ж, не довольно. Проповедник имеет дело с сердцем; его он должен искать, ему говорить, его убеждать, и на сей-то конец введены увещания. Судя по различию материй, в них он должен представлять или правила, или побуждения, или последствия, но должен все наклонять к сердцу. Здесь воображение его должно разлиться и смешаться с воображением слушателей, здесь страсти его должны гореть и бросать искры в предстоящих, словом, долженствует торжествовать красноречие.
Итак, я отличаю главные части в нашем плане: часть логическую, или философическую, в коей оратор должен говорить уму, и часть витийства, в коей он должен говорить страсти. Таким образом, сей план удовлетворяет двум главным предметам красноречия: склонить ум, тронуть сердце.
Довод, собственно так называемый, должен быть краток, ясен, чист, приправлен философской солью.
Увещания должны занимать большую часть слова. Они должны быть живы, блистательны, должны быть писаны самым внутренним чувствием...
О слоге
Мы оставили нашего оратора на том месте его сочинения, где он, приискав мысли, старался их привести в порядок, который бы наиболее открывал их силу и совершенство. Мы снабдили его для сей работы некоторыми примечаниями и правилами. Теперь положим, что, пользуясь сими наставлениями, он расположил части своего предмета наивыгоднейшим для них образом. Что ж осталось после сего ему делать? Все риторы вам на сие в ответ скажут, что он должен еще приискать слова, распорядить их, дать им оборот и, связав известным образом сии обороты, предложить свою материю известным слогом, или, короче, он должен выразить предмет словами. И отсюда происходит третья часть риторики, которая рассуждает о выражении и, собственно, называется elocutio (слогом (лат.). - Ред). Вотще оратор будет мыслить превосходно и располагать естественно, если между тем не будет он силен в выражении. Слово есть род картины, оно может быть превосходно в своей рисовке или в первом очертании. Но без красок картина будет мертва. Одно выражение может дать ему жизнь. Оно может украсить мысли низкие и ослабить высокие. Великие ораторы не по чему другому были велики, как только по выражению. Вергилий и Мевий (Мевий - римский поэт-архаист, литературный противник Вергилия. Чернышевский писал, что Вергилий навеки заклеймил своих литературных врагов, Бавия и Мевия, знаменитым стихом: "Кому сносен Бавий, пусть тот восхищается твоими стихами, Мевий". И дальше: ""Бавий" и "Мевий" сделались синонимами слов: "дурной писатель и дурной человек". Мало того: имена их дошли до нас только благодаря тому, что они упомянуты у Вергилия, которого старались терзать своими гнилыми зубами. То же будет с Бавиями и Мевиями всех времен" (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, 1949, стр. 692). - 79), Расин и Прадон мыслили одинаково, но первых читает и будет читать потомство, а последние лежат во прахе, и имя их бессмертно только по презрению. Надобно, чтоб выражение было очень важной частью риторики, когда столь великие, я хотел даже сказать, сверхъестественные делают перемены в слове; надобно, чтоб мысли и расположение были пред ним ничто, когда оно одно составляет ораторов, когда им различествует творец громких од от творца "Телемахиды" (Творец громких од - Ломоносов; творец "Телемахиды" - Тредьяковский. - 79). Итак, что ж есть выражение? Выражение, ответствуют нам те же риторы, не что другое есть, как связь или оборот слов, изображающих известную мысль, а посему слог не что другое есть, как связь многих выражений. Признаюсь, я ожидал более. Из свойств, какие были предписаны слогу, мне казалось: mons parturiebat (гора родила (лат.). - Ред). И что ж родилось? Ridiculus rnus (Жалкий мышонок (лат.). - Ред)...
Общие свойства слога
I. Ясность
Первое свойство слога, рассуждаемого вообще, есть ясность. Ничто не может извинить сочинителя, когда он пишет темно. Ничто не может дать ему права мучить нас трудным сопряжением понятий. Каким бы слогом он ни писал, бог доброго вкуса налагает на него непременяемый закон быть ясным. Объемлет ли он взором своим великую природу - дерзким и сильным полетом он может парить под облаками, но никогда не должен он улетать из виду. Смотрит ли он на самую внутренность сердца человеческого - он может там видеть тончайшие соплетения страстей, раздроблять наше чувствие, уловлять едва приметные их тени, но всегда в глазах своих читателей; он должен их всюду с собой вести, все им показывать и ничего не видеть без них. Он заключил с ними сей род договора, как скоро принял в руки перо, ибо принял его для них. А посему хотеть писать собственно для того, чтобы нас не понимали, есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей. Если вы сие делаете для того, чтоб вам удивлялись, сойдите с ума - вам еще более будут удивляться...
II. Разнообразие
Второе свойство слогу общее есть разнообразие. Нет ничего несноснее, как сей род монотонии в слоге, когда все побочные понятия, входящие в него, всегда берутся с одной стороны, когда все выражения в обороте своем одинаковы; словом, когда мы в продолжение сочинения предпочтительно привязываемся к одному какому-нибудь образу выражения или форме. Арист мне читал свое сочинение. Это не сочинение, но собрание примеров на антитезис; все у него противоположено, все сражается между собою. Я сказал ему, что надобно быть более разнообразну в слове и не все выливать в одну форму. Он исправился и на другой день принес мне другое писание: противоположения в нем не было, но вместо того все превращено в метафору, все изображено в другом, и, что всего хуже, подобие непрестанно берется от одного и того же предмета...
III. Единство слога
Не должно, однако, разуметь под именем разнообразия сей развязанности слога, когда все выражения делают столько различных кусков, оторванных от различных материй и связанных вместе. Это было бы противно единству слога, третьему свойству его, столько же существенному.
Надобно, чтобы части были разнообразны, а целое едино; надобно, чтобы в сочинении царствовал один какой-нибудь главный тон, который бы покрывал, так сказать, собой все прочие. Так в музыке все голоса различны, но все подчинены главному тону, который идет в продолжение всей пьесы. Сей-то род гармонии, разнообразной в частях и единой в целом, необходимо нужен в слоге. Отрывы и падения из слога высокого в слог низкий, из красивого в посредственный не могут ничего другого произвесть, как разногласие и дикость. Но понеже высокое имеет подчиненные виды; понеже красивое и посредственное может происходить от тысячи различных мыслей и сопряжений, оттуда происходит, что сочинение может быть вместе и едино в главном виде слога и разнообразно в частях своих...
IV. Равность слога с материей
Слог должен быть равен своему предмету, т. е. все побочные понятия должны быть соразмерны своим главным. Если главные мысли возвышенны, все зависящие от них должны быть сильны и благородны; если первые просты, последние должны быть легки и естественны. Сие вообще столько справедливо и столько существенно, что возвышеннейшие материи, предложенные слогом низким, равно как и низкие, предложенные слогом высоким, делаются смешными и делают начало всем сим сочинениям наизнанку, кои забавны только потому, что к главным понятиям великим приплетены низкие или к низким высокие. Так российский Скаррон, переодев Энея и богов, сделал смешными (Под российским Скарроном (см.) Сперанский имеет в виду, вероятно, И. П. Котляревского (см.), азтора поэмы "Энеида", 4 части которой были изданы в 1809 г. в Петербурге. Поэма К. представляет собой шуточный пересказ "Энеиды" Вергилия (см.). События античного мира развертываются в поэме на Украине, все персонажи оказываются переодетыми в украинские национальные костюмы. До Котляревского сюжет "Энеиды" для шуточного пересказа использовал также русский поэт конца XVIII в. Николай Петрович Осипов. Его поэма "Вергилиева Энейда, вывороченная наизнанку" пользовалась широкой популярностью у современников. - 81); так Буало из налоя сделал поэму (Имеется в виду комическая поэма Буало (см.) "Le Lutrin" ("Аналой"). - 81), Поп - из локона волос (М. М. Сперанский имеет в виду английского поэта А. Попа (см.) и его комическую поэму "Похищение локона" (1712). Пародируя приемы античного эпоса, Поп дает сатирическое изображение аристократического быта Англии XVIII в. - 81); описав Гомеровым пером сии низкие или мелкие предметы, они заставили нас смеяться. Столько-то необходимо, чтоб слог был равен или однозвучен с своей материей.
На первый взгляд нет ничего легче, как сие. Между тем, однако ж, быть не выше, не ниже своего предмета есть очень редкое достоинство в писателе. К сему надобно, чтоб он знал совершенно степень силы и напряжения, какой может принять его предмет, и к сему степени приспособить свой слог; знание, сколько необходимое, столько и трудное.
О произношении
Под именем произношения я разумею то, что древние называли actio, и в сем слове заключаю не только тон и наклонение голоса, но вместе вид и положение всех частей оратора.
Красноречие... основано на недостатке истинного просвещения. С тех пор, как сердце начало мешаться в суждения разума, с тех пор, как человек, утончив и раздражив свою чувствительность, попустил ей владычествовать во всех своих понятиях, все захотел чувствовать и очень мало размышлять, - с тех пор страсти и предубеждения получили важный голос во всех суждениях; и верный способ убедить разум и выиграть дело истины есть ввести в свои виды сердце и воспалить воображение. На сей-то слабости и бессилии ума основали ораторы все таинство витийства, так как на первой несправедливости основали законодатели науку правосудия. Если когда-нибудь ум станет на сей высоте просвещения, откуда он может озирать истину во всем ее пространстве, и обоймет единым взором все поле своих отношений и польз, тогда предложит истину во всей ее простоте, будет убежден в ней; тогда, в ту самую минуту, разрушится вся наука красноречия, пройдет царство лестных заблуждений и настанет царство разума; тогда великие памятники витийства сокрушатся:
Черты Гомера и Марона, Все их бессмертное умрет,
и на их развалинах утвердится вечный престол всеобщего смысла. Но доколе еще сия блистательная эпоха не придет, доколе просвещение наше будет только прививок заблуждений и предрассудков, дотоле будет необходимо сражать страсти страстями, противоставить предрассудки предрассудкам и вести ум к истине через заблуждение; это - дитя, которое надобно учить, забавляя, и утешать, обманывая. Итак, те не знают истинного начала красноречия, которые думают, что предубеждающая внешность не нужна в ораторе. Они не знают, что самое существо витийства основано на предубеждении, ибо основано на страстях, и вития не что другое есть, как человек, обладающий таинством двигать по воле страсти других и, следовательно, отнимать у разума холодную его и строгую разборчивость, воспламенять воображение и отдавать ему похищенные права рассудка. Итак, наш оратор не ограничит своего искусства одним только сочинением, он настроит с предметом своим голос, лицо, вид и руку, все в нем будет говорить, и все будет красноречиво. Древние очень твердо знали сию истину; и внешность, по большей части презираемая ныне, была тогда существенной частью риторики. Каких трудов стоило Демосфену приобрести ее? Но он лучше захотел бороться с природой, нежели презреть ее. Цицерон путешествовал в Грецию единственно для того, чтобы смягчить и сделать льющимся свой голос, и не прежде стал великим оратором, как дав гибкость и оборот руке, сообщив выражение глазам и всей внешности вид предзанимающий. Повседневные примеры оправдывают сию истину. Для чего Арист, рожденный с тонким умом и удобовозгорающимися страстями, Арист, пишущий с выбором и вкусом, для чего он так мал на кафедре оратора? Это потому, что в нем недостает целой половины к сему роду знания; он хороший писатель, но худой вития. Для чего, напротив, Клистен, с посредственным умом, с холодным воображением и грубым вкусом, пользуется всей славой витии? Это потому, что, мало выражая словом, он сильно говорит видом, тоном и рукою. Но откуда происходит, что сие редкое совокупление слова и наружности необходимо нужно к совершенному успеху красноречия? Основав вообще сию истину на необходимости предубеждения, снизойдем теперь к частям ее и постараемся открыть каждой из них истинное начало.
Давно уже философы жалуются на несовершенство языков. В самом деле, нетрудно приметить, что есть тысяча тонких оттенков в разуме, коих никаким словом выразить неможно. Наши мысли бегут несравненно быстрее, нежели наш язык, коего медленный, тяжелый и всегда покоренный правилам ход бесконечно затрудняет выражение. Сколько предметов, сколько сопряжений ум может обнять одним ударом, в одно почти мгновение, и сколько недостаточны к тому слова, чтобы вести беспрерывную историю наших размышлений! Прибавьте к сему, что сцепление понятий в уме бывает иногда столь тонко, столь нежно, что малейшее покушение обнаружить сию связь словами разрывает ее и уничтожает, не говоря о действовании душевных сил, коих различные сопряжения неможно изъяснить словом. Природа множество представляет нам явлений и мелких перемен, коих ни на каком языке выразить неможно; и, чтобы описать все перемены, сопряжения, постепенности и смешения одних цветов, нам надобно составить особенный словарь, изобрести новый язык. Сверх сего, говоря о слоге, мы имели случай приметить, что сила и напряжение главных понятий зависят от соединения с ними понятий побочных. Следственно, чтоб сохранить сию силу, надобно предложить их во всей их связи. Сия связь бывает иногда столько тесна или столько сложна, что надобно всю систему сих понятий предложить одним словом, но слова редко нам делают сию услугу. Самое лучшее из них, самое значительнейшее обнимает только половину сей системы, а другую оставляет в уме и, таким образом раздвоив понятие, отъемлет половину его силы и подрывает смысл. Бесспорно, что ум слушателя, если он будет однороден с умом оратора, найдет в своем мозгу сию упущенную половину и, дополнив ее, сохранит в мысли всю ее силу; но понеже не у всех сопряжения понятий одинаковы или образ мыслей однороден, то где возьмут другие сию половину? Откуда могут они дополнить понятие? Обыкновенный язык оратора к сему не довлеет. Итак, он должен призвать на помощь другой язык - язык движения, тона и внешнего вида. Он должен то дополнить лицом, рукой и наклонением голоса, чего не может выразить словом. Из сего открывается истинное логическое понятие ораторского вида, который не что другое есть, как дополнение понятий, упущенных по недостатку слов или несовершенству языка (Где понятие praegnans (беременная. - Ред.), там только нужен жест. - Прим. автора). Когда еще язык не вычищен и не обогащен, обыкновенно занимают из других слова, в коих он недостаточен. Так, немцы в половине текущего (Читатель припомнит, что это сочинение писано в конце XVIII столетия. - Прим. изд. Ветринского) столетия по бедности языка занимали слова из латинского и французского языков и писали вдруг на трех языках; так и французы в начале образования своего слова собирали великую дань с латинского. Таким же точно образом оратор по несовершенству языков вообще пользуется языком всеобщим, языком движения и вида. Я называю его языком во всей строгости слова. В самом деле, восходя к началу и рождению человеческого слова, мы находим, что в первобытном состоянии оно не что другое было, как язык движений и естественных криков. Первое чувствие болезни, удивления, страха, радости извлекало из человека нестройный, но много выражающий крик, а первая нужда заставила его дать протяжение руке и указать вещь, которую он требовал. Сопрягая помалу сии протяжения и различные положения руки и соединяя их по местам с простым голосом, он составил для себя небольшой язык, коим сообщал свои понятия, доколе не приметил из разных и случайных наклонений голоса и ударения языка, что сей орган способнее может выразить его чувствия, нежели рука и вид. Таким образом помалу оставил он сей первый язык естества и все начал изображать словом; но тысячи с ним встречались и теперь встречаются случаев, когда он принужден бывает употреблять сей древний и оставленный язык в помощь новому. Сие пособие тем для него бывает необходимее, чем тонее и возвышеннее его понятие, чем сильнее мысли и чем вернейшего и обширнейшего требуют они выражения. Вот начало ораторского вида, тона и движения и истинная теория сей важной и забытой части красноречия.
О правилах произношения
...Начало слова всегда почти должно произносить тоном средним и умеренным, с приятной простотой, кроткостью и непринуждением. Сильное напряжение голоса и руки во вступлении, не сообразно с спокойным состоянием понятии слушающих; надобно их постепенно возвышать и настраивать на свой тон, чтоб после сделать счастливое на них ударение. Сверх сего, начав сильно, нельзя не ослабить к концу и тем самым опустить внимание слушателей и оставить слово без действия. Надобно, чтоб лицо, голос и руки - все оживлялось час от часу более и чтоб конец или заключение было самое разительнейшее место в слове. Здесь должны открыться во всем своем пространстве все наружные дарования оратора, чтоб докончить потрясение умов и сделать удар, который бы долго раздавался в их сердце.
О виде оратора
О лице
Кто чувствует, и чувствует сильно, того лицо есть зеркало души. Начиная от самых слабых теней рождающейся страсти даже до величайших ее восторгов, от первых ее начал до самых сильнейших последствий - все степени приращения, все черты ее изображаются на живом и нежном лице. Отсюда происходит, что язык лица всегда был признаваем вернейшим толкователем чувствий душевных. Часто один взгляд, одно потупление брови говорит более, нежели все слова оратора, а посему он должен почитать существеннейшей частью его искусства уметь настроить лицо свое согласно с его речью; а особливо глаз, орган души столько же сильный, столько же выражающий, как и язык, должен следовать за всеми его движениями и переводить слушателям чувствия его сердца. Прекраснейшая речь движения делается мертвой, как скоро не оживляет ее лицо. Напрасно Клеон силится великолепным своим словом тронуть своих слушателей. Его голос не проходит к сердцу, ибо его вид туда его не провождает. Его речь делает предстоящим ту только услугу, что располагает их ко сну, ибо они праздны, ибо он их не занимает, ибо не разговаривает с ними, но только читает. И что они могут другое делать, как хвалить твердость его памяти, скучать и спать? Я согласен, что слово его исполнено красот. Но чувствует ли он сам истины, кои хочет внушить другим, чувствует ли их, когда лицо его спокойно? Если б страсть, наполнив его сердце, в нем волновалась, она пробилась бы через все препятствия, выступила бы на его лице и оттуда пролилась бы на его слушателей. Нет! Клеон хочет только нас обмануть или дал клятву усыпить. Посмотрите на огненного Ариста - на лице его попеременно изображаются все состояния его души: то очи его сверкают гневом, то слеза умиления катится по его ланите, то чело его опоясуется тучами печали, то луч радости на нем сияет...
Все, все до слова сказывает нам его вид, что ни чувствует его сердце. И можно ли после сего ему не поверить? Не стыдно ли думать иначе, нежели думает Арист? Таким-то образом приобретает он неограниченную власть над умами и делается маленьким тираном сердец.
Одно примечание мне кажется здесь необходимо нужным. Ничто столько не отнимает у лица его силы и выражения, как сей неопределенный и блуждающий вид, когда оратор, смотря на всех, не смотрит ни на кого, когда не может он определить точного места, куда должен он склонять удар очей, и, говоря всем, не говорит никому. Чтоб избежать сего важного и очень обыкновенного порока, надобно раз навсегда положить за правило устремлять мысль, каждое помавание лица на одного кого-нибудь из предстоящих, дабы казалось, что он именно ему говорит. К сей предосторожности надобно присовокупить еще другую, чтоб разделять сие направление вида попеременно по всем, а не смотреть в продолжение всей речи на одного: надобно, чтоб каждая мысль относилась к одному из предстоящих, но чтоб целое слово не относилось к одному и тому же, а разделено было всем по известной части. Я не буду здесь говорить о размахах и беспрестанных волнениях головы, слишком порывистых и слишком тупых движениях глаз, о непостоянстве или ветренности вида - все сии пороки довольно известны и отвратительны и без моего напоминания.
О голосе
Счастлив, кому природа даровала гибкий, чистый, льющийся и звонкий голос. Древние столько уважали сие дарование, что изобрели особенную науку делать его приятным. Частое упражнение, напряжение груди и вкус в музыке могут дополнить или сокрыть недостатки природы. Но мы слишком мало заботимся о всех сих наружных дарованиях оратора, может быть, потому, что слишком мало знаем сердце человеческое и слишком мало согласны в сей истине, что существо витийства основано на страстях и, следовательно, на предубеждении, а потому по большей части на наружности. Все сие мы очень мало знаем и для того гордимся подражать Демосфену и Цицерону. В самом деле, это малости, но соединением всех сих малостей они были велики...
Те ошибаются, говорит один ритор из новейших, которые смешивают напряжения голоса с его ключом, или тоном. Можно говорить вразумительно и низким голосом, ибо громкость голоса не зависит от возвышения его, но только от напряжения.
О выговоре
Язык твердый, выливающий каждое слово, не стремительный и не медленный, дающий каждому звуку должное ударение, есть часть, необходимо нужная для оратора. Часто мы слушаем с удовольствием разговаривающего человека потому только, что язык его оборотлив и выговор тверд. Слушатель, кажется, разделяет все затруднения оратора, когда язык его ему не повинуется, и очень дорого платит за его холодное нравоучение. Кто хочет иметь дело с людьми, тот необходимо должен мыслить хорошо, но говорить еще лучше. Все правила выговора содержатся в сей мысли: promptum sit os, поп preceps, moderatum, nоn lentum (язык бойкий, но не стремительный; спокойный, но не медлительный (лат.). - Ред).
О движениях
Рассуждая о виде оратора вообще, мы открыли истинное начало движений руки и усмотрели связь, которая существует между ими и словом. Мы нашли, что рука дополняет мысли, коих нельзя выразить речью, и, следовательно, движение ее тогда только необходимо, когда оратор больше чувствует, нежели сколько может сказать, когда сердце его нагрето страстью и когда язык его не может следовать за быстротой его чувств. Отсюда можно произвести важное правило, что рука тогда только должна действовать, когда нужно дополнять понятия. Холодный разум не имеет права к ней прикасаться; для него довольно одного органа; одна только страсть может двигать всеми частями оратора и сообщать движение руке. Итак, нет ничего смешнее, как обыкновенные приемы молодых ораторов, которые почитают за нечто необходимое во все продолжение речи переносить руку с одной стороны на другую и сим единообразным искусным маханием прельщать своих слушателей. Повторим еще, что рука двигается тогда только, когда ударит в нее сердце, т. е. в местах страстных, жарких и живых. Во все прочее время она может лежать спокойно. Отсюда также происходит, что во всех малых речах, где страсти не имеют ни времени, ни места раскрыться, движение руки, каково бы оно ни было, есть совершенно нелепо.
Все сии примечания о внешнем виде оратора, я чувствую, слишком общи и посему самому в употреблении бесполезны; но я уже сказал, что это есть такая часть риторики, в которой все должно снимать с примера и очень мало со слов. Чтобы в ней себя усовершить, нет другого способа, как примечать со всем напряжением внимания пороки и совершенства ораторов, а к сему надобно иметь сей тонкий и быстрый удар очей, уловляющий с первого взгляда Горациево quid deceat in rebus (то, что приличествует обстоятельствам (лат.). - Ред).
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://scienceoflaw.ru/ "ScienceOfLaw.ru: Библиотека по истории юриспруденции"