
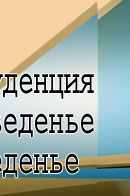
Библиотека
Юмор
Ссылки
О сайте

М. Е. Салтыков Щедрин
О красноречии в России
Да, и у нас оно выросло, это пресловутое древо краснотречия, которым до сих пор мы любовались лишь издали; и у нас под прохладной тенью его уже многие приобрели для себя мир душевный и невозмутимость сердечную; и у нас, Dieu merci (славу богу), болярин Сергий, насытившись вдоволь разъедающими речами раба божия Павла, может в веселии сердца своего воскликнуть: "Ах, черт возьми, кто бы мог думать, что у нас явятся такие ядовитые бестии!.. Да ведь это Jules Favre pur' sang!" (чистейший Жюль Фавр) (только видимый с затылка, прибавлю я от себя),- да, и мы, наконец, с законной гордостью можем сболтнуть изумленной Европе, что в наших
. . . . . parages Le doux ramage
(...местах сладкое щебетание)
уже не мечта разгоряченного воображения, а настоящая, истинная истина!.. И если вам, о любители отечественного просвещения, доселе остается неизвестным сей достопримечательный факт, то это происходит оттого, что вы слишком охотно рассуждаете о свойствах буквы ижицы и из-за ижицы не замечаете обновляющейся России.
Что до меня, то я сам его видел, сам убедился в существовании этого милого растения, называемого древом красноречия, и, если хотите, могу даже сообщить вам "краткое" описание его. Почва, в которой лежат его корни, болотиста и злокачественна; ствол его жидок и тонок, но верхушка объемиста и если не густа, то космата; листья бледны и бессочны, но снабжены колючками, которые если не наносят положительного вреда, то производят в субъекте, к ним прикасающемся, чесотку и волдыри. Вообще это - дитя хилое, больное, слабосильное и, несмотря на свои колючки, весьма безобидное. При малейшем дуновении ветра оно всей своей растрепанной массой приклоняется к земли и рабски-болезненно при том стонет. "Я безвреден! Я безвреден! - слышится в этом жалобном стоне. - Меня можно бить и потому незачем убивать!" И ветры все дуют да дуют, а дерево все живет да живет, как будто для того, чтоб доказать нелепую мысль, что и в мраке есть свет и в смерти есть жизнь.
Приятель мой Иван Педагогов, великий охотник до всякого рода словоизвержений, едва лишь издали завидел вершину этого дерева, как уже не в силах был воздержать необузданность своего сердца, преисполненного благими намерениями и бескорыстнейшими побуждениями. Он вдруг, без всякой побудительной причины, уподобился укушенному шакалу, начал соваться и бегать и в заключение стиснул меня в своих объятиях, в которых, однако ж, я в качестве наблюдателя не мог не заметить сильного присутствия риторики. "Любезный друг! Ты делаешь сочинение на тему: "Восход солнца"!" - думал я, покуда он задыхающимся от искусственного волнения голосом декламировал передо мной: "О, как мы должны радоваться, как мы должны гордиться тем, что дожили до такого момента! Друг мой, если бы да к этому на место Петра Петровича назначили Федора Федоровича, то нет сомнения, что обновление нашего любезного отечества можно было бы считать совершившимся!" После этой речи мы оба заплакали, заплакали гнусными, деланными слезами, и я до сих пор не могу отделаться от тяжести, которая легла на мое сердце от этих неприличных слез.
Появление на нашей почве древа красноречия тем более должно было поразить, что до сих пор мы думали, что ораторское искусство не может быть добродетелью россиян. Предки наши занимались возделыванием земли, утучняли стада свои, были гостеприимны и благодушны, сидели большею частью "уставя брады"; когда же хотели солгать, то приговаривали только: "Да будет мне стыдно" - и затем были уже совершенно уверены, что любезный собеседник обязан принимать слова их за чистую монету. Вот свидетельство, оставленное нам историей. Сверх того известно, что россияне с успехом занимались приготовлением многоразличных сортов меда, но во всяком случае в числе этих сортов никогда не значилось меда красноречия.
Очевидно, что при таком земледельческом, скотоутучняющем характере цивилизации страсти к словоизвержениям не могло быть дано много места. "Ешь пирог с грибами, а язык Держи за зубами", - гласит нам мудрость веков; а "Пчелы" Да "Измарагды" ("Пчела" - древнерусский сборник изречений. "Измарагды" - древнерусские литературные сборники религиозно-нравственного содержания. - 123.) прибавляют: "Человеку даны два уха, Чтоб слушать, и один язык, чтоб говорить".
И действительно, отцы наши говорили или чересчур сжато, или же хотя по временам и размазисто, но больше наполняли свои речи украшениями и учтивостями вроде: "тово", "таперича", "тово-воно как оно", "с позволения сказать" и т. д. В подкрепление моей мысли позвольте мне представить вам несколько образцов этого древнего, коренного нашего витийства.
Красноречие Марса. "Не рассуждать! Руки по швам!" При этом, гласит предание, нередко случалось и так, что Марс вместо слов ограничивался простым рычанием, что, без сомнения, представляет самую сжатую форму для изъяснения чувств и мыслей.
Красноречие сельское. Но об этом виде красноречия я много распространяться не стану: оно вполне резюмировано г. Тургеневым в звуке: "чюки-чюк! чюки-чюк!"
Красноречие бюрократическое. "Да вы знаете ли, милостивый государь! Да как вы осмелились, государь мой! Да известно ли вам, что я вас туда упеку, куда Макар телят не гонял!"
Красноречие торжественное, или, так сказать, обеденное. "Очень рад, господа, что имею случай... тово... это таперича доказывает мне, что вы с одной стороны... чувства преданности... ну и прочее... а с другой стороны, и я, без сомнения, не премину... от слез не могу говорить... Господа! За здоровье Крутогорской губернии!"
Одним словом, пользуясь указаниями опыта и бывшими примерами, мы имели полное право догадываться, что у нас скорее может процветать балет, нежели драматическое искусство.
И вдруг мы задумали отречься от преданий, завещанных благоразумными отцами нашими, и в юношеском восторге забыли даже пословицу: "Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами". Мы, весь свой век твердившие: "А вот поговори ты у меня, так узнаешь, как кузькину мать зовут", мы, пролизавшие слезы умиления при одном слове "безмолвие", которым грады и веси цветут, - мы... вдруг почувствовали, что у нас одно ухо, чтобы слушать, и два языка, чтобы говорить, и что пирог, который мешал нам свободно разевать рот, съеден весь без остатка...
Какая же причина столь внезапного явления? Что заставило нас заменить наше прежнее необузданное молчание столь же необузданной болтовней?.. Хотя отвечать на этот вопрос довольно трудно, однако попытаюсь.
Ближайшие исследования дают повод думать, что первой и главной побудительной причиной было то, что нам вышло позволение говорить, подобно тому, как выходят: отставка, определение, отсрочка, новые формы и т. д. Спрашивается, если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить? Если вышла человеку новая форма одежды, может ли он продолжать ходить в старой? Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И само нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным ослушанию воле начальства?..
Итак, если кем-либо употребляется, например, выражение "дозволяется быть веселым", то это положительно значит, что веселость есть вещь обязательная и что всякий, кто отныне осмелится взглянуть исподлобья или быть недовольным погодой и пр., должен подлежать истязанию, как нарушающий общественную симметрию. Подобно сему слова "позволяется говорить" положительно означают... не то, что отныне могут пользоваться даром слова желающие, а то, что всякий благонамеренный гражданин должен считать своей обязанностью говорить, и не просто говорить, а без устали, до истощения сил, говорить до тех пор, пока на устах не покажутся клубы пены, а глаза не пропадут бог весть куда... Выходит, что это уж не красноречие, а нечто вроде щекотания под мышками...
Второй причиной, побудившей нас к словесным подвигам, было, кажется, то, что в последнее время развелось на Руси много людей, которые вдруг ни с того, ни с сего начали утверждать, что вечно спать невозможно. Сначала одинокие голоса эти нас забавляли; мы даже охотно им вторили, потому что дело касалось нас еще стороной. Но вот мало-помалу они начали раздаваться назойливее и назойливее, и в то самое время, когда, погруженные в волшебный сон, мы ходили по коврам и по бархату, некто взял на себя труд окончательно растолкать нас. "Очнитесь, лежебоки! - услышали мы. - Вставать велено!" Можете себе представить, в какой переполох мы пришли от этого приветствия! Спросонья, мы были некоторое время в недоумении, не знали, трусить ли нам или быть храбрыми, уткнуться ли снова в подушку или выставить измятое лицо на свет божий... Вокруг нас все смотрело как-то ново и непривычно: кипела новая жизнь, проходили новые люди, которые глядели на нас хотя без злобы, но с какой-то сдержанной иронией, как будто вот-вот сейчас так и прыснут со смеху... "Что нам делать? Что нам делать? - восклицали мы, ощущая все муки предсмертной тоски. - Откуда все эти пришельцы? Что значат эти приготовления?" И долго бы колебались мы, если бы время не убедило нас наконец, что над нами много смеются и очень мало злорадствуют. "Следовательно, надо быть храбрыми!" - воскликнули мы и в то же мгновение разразились целым потоком слов. Мы внезапно почувствовали, что и мы можем лицом товар показать, тем более, что нам предстояло защитить свое право лежания, сладкое право, без боя добытое нашими предками.
Итак, второй причиной нашей болтливости было живое и законное чувство самосохранения.
О чем же мы говорим и как говорим, спросите вы. Прежде, нежели отвечать на этот вопрос, позвольте мне рассказать несколько печальных историй.
У меня был знакомый, который вместе с прелестнейшим голосом был одарен от природы и чувствительнейшей душой. По-видимому, нежный тенор и чувствительная душа - две вещи, которые как нельзя более идут друг к другу, однако на деле выходило совершенно противное. Едва, бывало, затянет мой приятель: "Oh, per che поп posso odiar' ti" (О, отчего не могу я ненавидеть тебя), как голос его внезапно оборвется, и изумленные слушатели вместо пения делаются свидетелями самых горьких, а иногда и безобразных рыданий. Таким образом, мы, почитатели вокальных дарований нашего друга, так-таки и не могли добиться случая насладиться звуками его голоса, хотя ни один из нас ни на минуту не усомнился в том, что голос этот должен быть прелестен.
У меня был другой знакомый, который мог бы быть образцовым помещиком, если бы... если бы не та же чувствительность, бедственные последствия которой описаны уже мной выше. Бывало, неделю-другую приятель мой только и дела, что благодетельствует, а потом вдруг ни с того, ни с сего взгрустнет... и пошел все в рыло да в рыло. И хотя при этом намерения его были самые чистые, тем не менее он все-таки попал под опеку!
У меня есть третий знакомый, который мог бы быть весьма приятным публицистом, если бы перо его собственным своим побуждением не производило всякий раз такого клякса, после которого деятельность публициста становится совершенно невозможной.
Примеров таких маленьких несчастий встречается немало, и я рассказал о них для того, собственно, что у меня развелось в настоящее время множество знакомых, которые могли бы затмить своим красноречием и Беррье, и лорда Дерби, если бы не препятствовало тому несовместное с ораторской карьерой косноязычие.
Однако вы можете себе представить, как я должен чувствовать себя несчастливым, проводя жизнь среди таких неудавшихся дарований! Очевидно, я должен их утешать, уверять деликатным образом, что это ничего, что это пройдет, что, может быть, и их усердие принесет со временем желаемые плоды... Но к делу.
О чем мы говорим и как говорим? Легко вам поставить такой вопрос, но каково тому, кто принял на себя добровольную обязанность отвечать на него! Уловите мне "сию мечту", которая вот-вот сейчас зародилась в голове вашего молчаливого и углубившегося в себя соседа! А между тем "сия мечта" существует, в этом вы не можете сомневаться, потому что сами видите, как она явственно играет на губах и в бровях молчаливого господина! Уловите мне это благоухание, эту раздражающую эманацию любви, которая горит в воздухе, окружающем вашу возлюбленную! А между тем вы ни на минуту не можете усомниться в существовании их, потому что слишком явственно ощущаете, как сердце ваше мучительно раскрывается, чтоб принять в себя эти жгучие испарения! Поймайте мне, наконец, рукой первый палец той же руки, заключенный между вторым и третьим пальцами.
Уверяю вас, что уловить характер и содержание нашего красноречия гораздо труднее, нежели... нежели даже поймать вышеупомянутый первый палец.
Однако попытаюсь.
Во-первых, я должен с прискорбием сознаться, что сжатость, которой преимущественно щеголяли наши предки, утрачена нами безвозвратно. Увы! Мы уже не говорим больше: "Цыц, собака!" Мы уже находим, что эти первобытные формы не соответствуют современному состоянию цивилизации и что никакая речь не может быть в строгом смысле названа человеческой, если она не обставлена приличными делу обстоятельствами и не заключает в себе силлогизма. Поэтому мы стараемся выразить мысль нашу не прямо, а как-нибудь стороною: даем, например, почувствовать, что "на свете становые существуют", что "если они существуют, то надо полагать, что есть какая-нибудь цель этого существования", а следовательно: "так вот видишь ли, мой милый, говорить-то много и нельзя!" Или, например, по поводу искреннего желания содрать кожу с нашего ближнего мы отнюдь не выскажем прямо, что очень бы, дескать, приятно и, так сказать, пользительно, но прежде углубимся в девственные леса Америки, поднимем завесу, скрывающую от нас древний Рим, "с истинным прискорбием" найдем, что везде и всегда обдирание ближнего считалось чуть ли не доблестью, и только тогда уже, когда достаточно забросаем слушателя грязью наших исторических и статистических изысканий, осторожненько заключим, что если везде были люди, везде человеки, что если древний Рим, покоривший полвселенной, то почему же бы и нам и т. д.
Признаюсь откровенно, я душевно оплакиваю такое направление нашего красноречия. Во-первых, я всякий раз вспоминаю при этом наше древнее "Да будет мне стыдно", а во-вторых, мне истинно жаль, что столько драгоценного времени, которое можно было бы с пользой употребить за зеленым столом, тратится на сомнительное и торопливое ознакомление с "Краткой всеобщей историей" Кайданова.
Второе качество, дающее содержание нашему красноречию, заключается в желании нашем доказать, что мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Казалось бы, что людям нечего и доказывать, что они люди: ведь так естественно быть человеком! Однако мы усиливаемся, мы заявляем об этом всем и каждому, мы просим верить и даже очень огорчаемся, если бы кому-нибудь вздумалось покачать при этом головою...
Третье качество, в котором мы искренне желаем заверить почтеннейшую публику, нам внимающую, есть современность. Когда все кругом нас говорит и пишет об обветшалости крепостного права, о вреде откупов, о безобразии взяточничества и казнокрадства, можем ли мы оставаться равнодушными? Можем ли мы, спрашиваю я вас, удержать биения сердец наших и не преподнести нашего собственного изделия букетов на алтарь отечества? Очевидно, что нет: во-первых, потому, что это не будет a la mode (по моде), а во-вторых, и потому, что кто же бы тогда стал внимать нам? Вымолви-ка мы теперь такое слово, как например откупа полезны, где ж бы нашлась публика для таких речей?! Итак, мы условились единодушно и заранее, что откупа - мерзость, взяточничество - мерзость, казнокрадство - мерзость, ябедничество - мерзость, а крестьянское право - une chose sans nom (вещь, для которой нет названия). Но, господи! Что за горечь кипит в наших сердцах, когда мы произносим эти слова! Какое горькое дрожание усматривается на побледневших губах наших, что за соленый вкус ощущается на языке, когда он лепечет заповедное вступление к предстоящей речи: "Господа! Нет сомнения, что предмет, нас занимающий, заслуживает искреннего нашего сочувствия!" "Черта с два. искреннего!" - думаем мы в это самое время, и поверьте, что для нас было бы во сто крат приятнее, если бы заставили нас проглотить ежа, нежели выдавить из себя эту простую, невинную фразу! Однако ж мы выдавливаем ее, и хотя внутри нас все колышется и как будто хохочет, но слова наши в порядке, носы не буйствуют, языки в порядке и даже физиономии в порядке... да, черт побери... в порррядке!..
Из всего сказанного выше вы можете сами легко сделать заключение о том, что составляет содержание нашего красноречия. Это, во-первых, старание не войти в слишком явное противоречие с грамматикой и синтаксисом, во-вторых, желание убедить всех и каждого, что ничто человеческое нам не чуждо, и, в-третьих, стремление хоть как-нибудь, хоть боком приобщиться к общему, современному направлению идей. Словом, чтоб определить характер нашего витийства одним термином, можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожним.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://scienceoflaw.ru/ "ScienceOfLaw.ru: Библиотека по истории юриспруденции"